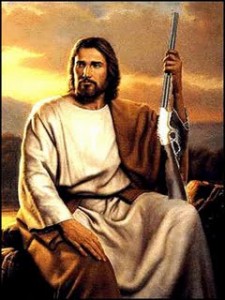 Термин «теология освобождения» впервые прозвучал в 1971 году из уст богослова и социалиста Густаво Гутьерреса, его новая «теология» не просто удачно сочетала католицизм с революционно-левой практикой (что случалось и раньше), но доказывала на цитатах из Писания и на исторических примерах взаимообусловленность двух начал — спасения души и непримиримой борьбы за земную справедливость как сущностно одного и того же процесса. Не удивительно, что «красные католики» стали заметным и влиятельным явлением в латиноамериканской жизни всего за несколько лет.
Термин «теология освобождения» впервые прозвучал в 1971 году из уст богослова и социалиста Густаво Гутьерреса, его новая «теология» не просто удачно сочетала католицизм с революционно-левой практикой (что случалось и раньше), но доказывала на цитатах из Писания и на исторических примерах взаимообусловленность двух начал — спасения души и непримиримой борьбы за земную справедливость как сущностно одного и того же процесса. Не удивительно, что «красные католики» стали заметным и влиятельным явлением в латиноамериканской жизни всего за несколько лет.
Предтечами «ТО» назывался священник и революционер Дон Хельдер Камара и проповедник Эмануэль Мунье, а одним из первых ее символов стал Камильо Торрес — священник, сражавшийся с оружием в руках вместе с партизанами и погибший в одном из боев. Помимо роли «духовного отца» партизанской общины, Торрес был их врачом, учителем детей и переводчиком текстов Мао, Ленина и Кастро. Портрет Кастро висел в его «лесной церкви» рядом с Иисусом. «ТО» между тем завоевывала не только сочувствующие партизанам крестьянские районы, где все можно списать на «непросвещенность» аборигенов, но и столичные университеты. Статья Гутьерреса «Маркс и Иисус» всколыхнула студентов, многие из которых происходили из глубоко верующих семей, а сами как раз тянулись к идеям новой социальной революции и переживали это как глубокое внутреннее противоречие. Оставаясь священником, Гутьеррес был признан интеллектуальным наследником марксистского философа Луи Альтуссера, по крайней мере, с точки зрения тогдашней левой прессы.
Одновременно другой католик Хуан Селундо издает книгу «Теология для строителей нового общества», протестант Мигель Бонино, проповедовавший «действие вместо слов», утверждает: «члены истинной Церкви Тела Христова — лишь те, кто борется за освобождение» — и сравнивает эту борьбу с борьбой библейского народа против египетского плена под руководством Моисея. Слова «низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем» воспринимались в оптике «ТО» не как «загробное» обещание, позволяющее терпеть несправедливость, но как программа посюсторонних, земных действий, как достижимый социальный идеал.
Впрочем, для «ТО» не менее важной была фраза Че Гевары: «Когда христиане вольются в социальную революцию, она станет непобедимой». Быстро наметился с самого начала ожидаемый конфликт «красных католиков» с римским Папой. Папские энциклики о классовом мире высмеивались и признавались, в лучшем случае, самообманом. «С точки зрения диалектики «примирение» — это преодоление породившей гнев несправедливости, то есть путь к «примирению» возможен только через социальную революцию», — разъяснял бюллетень «ТО», издававшийся в Лиме (Перу). Сложилась своя иерархия долга священника перед обществом — анализ ситуации без оглядки на правящие классы и действующую власть, просвещение масс в соответствии с этим анализом, наконец, деятельное участие в освобождении общин от «рабства капиталистического греха».
В Никарагуа несколько священников, признающих правоту этих тезисов и воспитанных «красным епископом» Полом Шмиту, вошли в сандинистское правительство, что вызвало немедленную реакцию Ватикана, отлучившего их от сана, чего они, естественно, не признали. Несмотря на всю пропаганду «официального католицизма», идеи и тексты «ТО» все дальше распространялись ее новыми «апостолами» (Вирхилио Элисондо, отец Бофф, написавший манифест «Харизма и власть») и давно вышли за пределы американского континента.
Социолог Альвин Гоулднер всю жизнь изучал, каким именно образом в глубоко «религиозных» и «непосвященных Западом» сообществах сохраняются и воспроизводятся черты прямой демократии участия, элементы самоуправления, примеры революционного гуманизма, заставляющего члена общины, если потребуется, пожертвовать жизнью ради своего «дикого коллектива». Именно обсуждая тексты Гоулднера в 80-е годы многие левые склонились к тому, чтобы включить «неортодоксальную религиозную жизнь» в список возможных «промежуточных зон» своей активности. Концепция «промежуточных зон» исходит из того, что далеко не все люди готовы и хотят сегодня встать под красные знамена. На то есть тысячи причин. Но это вовсе не значит, что на этих людей нужно махнуть рукой: они также нуждаются в опыте коллективной борьбы, демократизации жизни, самоорганизации, вмешательстве в отчужденную от них человеческую историю, более того, они осознают эту необходимость, но говорят о ней в частных, а не общих терминах, выражают свое желание на языке отдельной «узкой» группы, субкультуры, конфессии, секты. У них тоже есть чему поучиться, потому что они по-своему накапливают опыт противостояния и солидарности. С ними нужно уметь разговаривать не только на «своем», но и на «их» языке. Теология освобождения позволила признать, что «антисистемная религиозность» и в наши дни запросто может оказаться одной из «промежуточных зон», необходимых левым силам, наряду с другими — экологическим движением, альтернативной педагогикой, некоммерческим искусством и контркультурой. Действуя через «промежуточные зоны» как через «стыковочные узлы» с «закрывшими себя» отсеками общества, включаешь их энергию и пафос в общую панораму освобождения человечества, отчасти выступая в роли «переводчика» с языка на язык.
Не требует доказательств тот факт, что в ближайшие годы в России, и вообще на территории СНГ, людей, исповедующих ту или иную религию, будет все больше, как становилось их все больше с конца 80-х по сей момент. Причем речь идет не только о господствующих в некоторых регионах больших конфессиях, не только о «привозных конфессиях», вроде иеговизма, баптизма, мормонства, мунизма и библейских христиан, но и о более экстремальных и неожиданных движениях: неоязычниках, возрожденных культах небольших народов, которые были в загоне еще в Российской империи, о новых, «без истории», сектах, появляющихся «изнутри общества» благодаря новым харизматическим лидерам, вроде недавнего «белого братства» или «общины Виссариона» под Минусинском. Да и в случае больших конфессий настроения и взгляды конкретной региональной общины обычно определяются местным священником и неформальными авторитетами прихода, а уже потом указаниями из «центра», что оставляет возможность для «вариации» социальных ролей и позиций внутри одной и вроде бы «единой» конфессии.
С чем связано это бурное «орелигиозивание» населения? Естественно, с поиском смысла своей жизни и, что не менее важно, с опытом коллективной солидарности и братства, достигаемого в общине. Обе эти вещи исчезли вместе с СССР, хотя и в самом позднем, брежневском СССР всеми ощущался и отчасти даже официально признавался дефицит именно этих двух вещей. Почему две эти вещи — смысл себя и необходимость единства с себе подобными — ищутся сегодня где угодно, но только не у левых? Потому что аллергия на все «совковое» (путай: «социалистическое») проходит очень медленно и потому еще, что нынешние левые чаще всего не умеют и не хотят говорить с верующими — хотя бы отчасти — на их языке, а если и умеют, то уж точно не могут предложить «другой» коллективности, которая была бы более полным ответом на вопросы человека, ищущего свой смысл.
Так сложилось, что я прожил некоторое время в северном православном монастыре. Своих взглядов, в тот момент балансировавших между марксизмом и анархизмом, я ни от кого не скрывал и обсуждал их с одним из монахов. Однажды он сказал мне: «Монастырь это и есть мой коммунизм, а не нравится — строй другой, лучше». Я вежливо называл минусы такого коммунизма: недемократическую, а то и тоталитарную, систему управления в общине, фактическую цензуру на многие темы и тексты, навязываемый статус неформальных авторитетов тем, кто пока еще не готов этот статус признать, чрезмерно жесткие наказания и т.д. Отвечая, мой собеседник настаивал на добровольном выборе такой жизни всеми монахами и послушниками монастыря, а потом сказал очень простую и многое объясняющую фразу: «Я лучшего коммунизма не видел». До двадцати лет он жил в советском обществе, потом ушел в монастырь, и этот уход стал для него уходом из «ненастоящего» коммунизма с фальшивым единением всего народа в «настоящий», с крепкой общинностью и постоянными коллективными переживаниями глубокого смысла своей жизни и ее связи с историей всего мира.
Сегодня левые должны если не ответить, то по крайней мере спросить себя, чем объясняется то, что Роже Гароди — французский марксист с незапамятного года, автор множества книг, важных для международного левого движения, был-был марксистским диалектиком, да и принял ислам на старости лет? Его примеру, кстати, последовали многие ветераны «красных бригад» в Италии. Особенно эти вопросы важны при всполохах горящих небоскребов и попытках развязать новую мировую войну, мотивируя ее «нейтрализацией зеленого фанатизма». Если Нью-Йорк, Афганистан и Франция с Италией представляются до непонятности далекими, можно задать тот же вопрос еще более интересным образом: почему председатель «Исламского комитета», наш, российский «главный ваххабит», как величает его «Moscow Times», Гейдар Джемаль в каждой своей статье, лекции или интервью так часто и много говорит об идеях «Коммунистического манифеста», Марксе, социализме, едином антиимпериалистическом фронте и международной революции, делает комплименты Ленину и Троцкому, дружит с лимоновцами, но пытается «отучить их от национализма»? В позднесоветские времена подобные «странности» объяснялись просто: растет авторитет коммунизма во всем мире, вот все подряд и примазываются. Но сегодня, и особенно у нас, симпатии к «красным» никому популярности не добавляют, скорее наоборот, а уж тем более человеку религиозно ангажированному нужно иметь для таких симпатий глубоко внутренние, а отнюдь не внешние, основания. Значит, причина глубже, чем некая «конъюнктура», и требует от нас большей, чем вчера, пристальности.
Еще Маркс говорил, что революционные идеи, настроения и утопии до возникновения атеистического социализма существовали в «отчужденных», преимущественно — религиозных, формах, и ту или иную «ересь» (религиозное «большое начальство» всегда было бдительно и клеймило опасность) порой невозможно отчленить от борьбы за социальную справедливость. Оно и понятно, критическим и революционным проектам прошлого нужен был язык, а никакого другого языка, кроме религиозного, у тогдашних интеллектуалов просто не было. Это значит не только то, что традиция сопротивления существовала внутри религии, но и то, что до сих пор на специфическом языке верующих может быть сформулировано все, что угодно, включая призывы к борьбе против капитализма. В условиях «религиозного возрождения», как к нему ни относись, левым придется с этим считаться, если они не собираются остаться в гордой изоляции от общества, за освобождение которого борются.
Им нужно вспомнить, например, дореволюционную деятельность известного большевика Бонч-Бруевича, изучавшего жизнь всевозможных русских «сектантов» в смысле их потенциального участия в грядущей революции, и весьма заинтересованную позицию партии по этому вопросу. А также более чем плотные, с постоянными переходами «оттуда — сюда», отношения между эсерами (а ранее — революционными народниками) и всевозможными «духовными ересями» и некоторыми радикальными старообрядческими толками в России (см. об этом исчерпывающие книги Александра Эткинда «Хлыст» и «Толкование путешествий»).
Вспомнить многочисленные «сектантские коммуны», возникавшие по всему миру и под разными именами в прошлом веке, теоретически и практически связывавшие в своем опыте утопический социализм и «непосредственный духовный опыт», переживаемый всегда коллективно. Чаще всего генеалогия таких коммун велась их участниками от анабаптистов. Анабаптисты, как известно, в 1534 году пытались достигнуть непосредственного коммунизма (без частной собственности, семьи и денег), захватив и переименовав немецкий город Мюнстер в Новый Иерусалим, несколько лет сражавшийся «со всем падшим миром». Лидеры мюнстерского восстания были непосредственными учениками казненного Томаса Мюнцера, самого радикального и «левацкого» лидера Реформации, в прошлом католического пастора, которого Энгельс считал одним из непосредственных предтеч коммунистического учения.
Вспомнить, как в XIV веке либертины, адамиты и другие еретики, не признававшие долгов, налогов и частной собственности, активно участвовали в гуситском движении, максимально пытаясь сдвинуть гуситов влево. То, что считается сегодня «беспримерным героизмом», было для них в порядке вещей, потому что они настаивали на «непосредственном и прямом соблюдении заповедей Христа», отвергая всю церковную и государственную иерархию как «фарисейскую» и «дьявольскую».
Вспомнить их прямых предшественников — богомилов, альбигойцев, катаров, офитов, которых взятых вместе часто называют «гностической традицией». Общим для всех гностиков-дуалистов был культ знания (гнозиса), спасающего человека от пут темной и мрачной окружающей действительности и, прежде всего, от господствующей социальной и экономической структуры. Для всех версий средневекового гностицизма мир вообще и его политическая иерархия в частности, со всеми «законами», «требованиями» и прочим официозом, оставались творениями злого демиурга, соперника настоящего светлого бога, спасающего людей из мрака. Спасение же гностики находили в противостоянии миру и демиурговой власти, с одной стороны, и в создании тайных, живущих по иным правилам, общин, с другой. Гностики, меняя имена и символические языки, почти всегда оказывались катализатором народных волнений, крестьянских восстаний и антиправительственных заговоров, потому что такая позиция и почти неизбежное мученичество потом были для них долгом перед самими собой и Христом, обещавшим им в недалеком будущем «эпоху Святого Духа».
В гностицизме подозревался и посмертно осужденный как еретик Майстер Экхард, влияние которого признавали многие революционные гуманисты Ренессанса и даже Гегель. В своих проповедях XIV века университетский профессор и член францисканского ордена Экхард фактически приравнивал человека к Богу, утверждая, что человек «создает Бога» в той же мере, в какой «Бог творит человека» (такую доктрину впоследствии остроумно назовут «стереотеизмом»), и делал из этого весьма неутешительные для миропорядка его времен выводы, обещая в перспективе всеобщее «обожение» людей и скорый конец «извращению Завета», воплощенному в вассалитете, торговле, собственности и моногамной семье.
Этот список того, что хорошо бы вспомнить левым, можно длить бесконечно, забираясь во все более далекие дебри истории. Чего стоит, например, суфийское движение Ахи Эврана (XIV век), мусульманское по форме и социалистическое по содержанию, но пора задать вопрос: а зачем вспоминать об этом? Ведь это все было и прошло. Затем, что все это, или буквальные аналоги этого, продолжают существовать и сейчас, и скорее всего многие аналоги только возникают или возникнут завтра в результате дальнейшего дрейфа нашего общества к «духовным ценностям» и всевозможным «исповеданиям».
Позиция большинства наших левых — «атеизм и никаких гвоздей!», конечно, вызывает уважение, но слишком уж часто означает отсутствие интереса к другим «интеллектуальным языкам», на которых изъясняются наши соседи. Конечно, конформизм сегодняшнего религиозного официоза (той же РПЦ), канонизация последнего царя не может не вызывать «критики слева», но нужно исходить из того, что большинство верующих, во-первых, не имеют к этому конформизму прямого отношения, а во-вторых, многие настроены к нему весьма негативно и выходят из этой двусмысленности, говоря, что «земная церковь», подверженная всем грехам, не более чем искаженное отражение «церкви небесной», идеальной. В самом ходе мысли здесь заключена возможность ее дальнейшего диалектического развития в нашу сторону (см. вышеназванные исторические примеры). Существует и другая трудность — диалог между верующими (не только христианами) и людьми социалистического выбора уже сегодня спародирован зюгановщиной. «Народно-патриотическая», с позволения сказать, «идеология» пытается совместить как раз таки два официоза — лакейскую «веру» клерикальных бюрократов с лакейским же соглашательством бюрократов политической «оппозиции», выполняющей функцию бездумного механического противовеса власти. Этому процессу может быть противопоставлено какое-то (отнюдь не механическое) сочетание революционного политического полюса левых с религиозным нонконформизмом «духовных радикалов» любых конфессий.
И вскоре у нас неизбежно появится своя «теология освобождения».
